Психоанализ: наука, искусство или религия?
Виктор Мазин, Евгения Александрова и Александр Погребняк
о Фрейде, психоанализе и непростых отношениях с научным сообществом
о Фрейде, психоанализе и непростых отношениях с научным сообществом
25 декабря в петербургском книжном «Порядок слов» психоаналитики Виктор Мазин, Евгения Александрова и философ Александр Погребняк обсудили современное положение психоанализа.
Поводом для встречи стала недавно вышедшая статья
философа Дмитрия Узланера «В защиту психоанализа».
Далее публикуются основные тезисы и выдержки из этого разговора.
Поводом для встречи стала недавно вышедшая статья
философа Дмитрия Узланера «В защиту психоанализа».
Далее публикуются основные тезисы и выдержки из этого разговора.
Почему нападают на психоанализ? Нужно ли его защищать? Что между психоанализом и наукой сегодня, или экономикой сегодня, или политикой сегодня? Мы хотели бы понять, что не так для кого-то с психоанализом, что его приходится защищать.
Я занимаюсь психоанализом и мне эта тема интересна, тема атак на психоанализ. И я не в состоянии прочитать, как правило, ни книгу, ни статью, которая пропитана неприязнью или ненавистью.
Вот есть, например, человек, которого я, наверное, ненавижу. Его зовут Адольф Гитлер. Но если бы меня люди, которые издают серию «Жизнь замечательных людей», попросили бы за миллиарды миллионов написать книгу про Гитлера, я бы этого не стал делать. Не хочу, мне неприятно.
Таких книг о Фрейде немало. А Фрейд вроде бы как не Гитлер.
Первая мысль, которая приходит мне в голову: а зачем мне всё это слушать и зачем мне всё это читать? Потому что я-то верю в психоанализ. Для меня это вопрос веры в первую очередь. И если я уверен, что Фрейд в каких-то своих соображениях принципиальных был прав, я верю ему. Как меня кто-то сможет разубедить в этом?
Я занимаюсь психоанализом и мне эта тема интересна, тема атак на психоанализ. И я не в состоянии прочитать, как правило, ни книгу, ни статью, которая пропитана неприязнью или ненавистью.
Вот есть, например, человек, которого я, наверное, ненавижу. Его зовут Адольф Гитлер. Но если бы меня люди, которые издают серию «Жизнь замечательных людей», попросили бы за миллиарды миллионов написать книгу про Гитлера, я бы этого не стал делать. Не хочу, мне неприятно.
Таких книг о Фрейде немало. А Фрейд вроде бы как не Гитлер.
Первая мысль, которая приходит мне в голову: а зачем мне всё это слушать и зачем мне всё это читать? Потому что я-то верю в психоанализ. Для меня это вопрос веры в первую очередь. И если я уверен, что Фрейд в каких-то своих соображениях принципиальных был прав, я верю ему. Как меня кто-то сможет разубедить в этом?
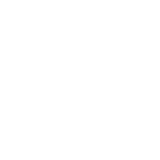
Виктор Мазин
психоаналитик
Я задавалась вопросом: а кто выбирает психоанализ? Ведь направлений психотерапии и практик очень много и каким-то образом происходит выбор; так же, как выбор любовного объекта: мы верим во что-то или не верим во что-то. И ответа на этот вопрос особенно нет. Но есть какие-то наблюдения в отношении того, что люди, занимающиеся психоанализом, чаще всего одиночки. Недавно услышала это от коллеги и тоже задумалась.
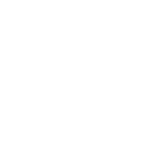
Евгения Алексадрова
психоаналитик
Интерес состоит ещё в следующем. Проблематику защиты психоанализа и защиты от психоанализа спровоцировал, конечно, сам Фрейд в своей знаменитой статье, которая называется «Сопротивление психоанализу». Где Фрейд, как вы все помните, пишет о трёх великих унижениях человека, и психоанализ – это некоторое последнее унижение, ниже вроде бы идти уже некуда. А если кто-то читал книжку Жижека «Устройство разрыва», по-моему, в этой книжке есть глава «Нейронная травма», где Жижек пишет о том, что нейронаука в каком-то смысле – это ещё более радикальное унижение человека.
Получается, между психоанализом и нейронаукой есть своего рода некоторая конкуренция...
Получается, между психоанализом и нейронаукой есть своего рода некоторая конкуренция...
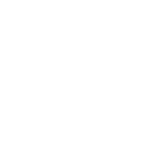
Александр Погребняк
философ
ВМ: Кто больше унизит человека. Гитлера не хватает, третий элемент.
АП: Да. И в этом смысле для кого-то это вообще может быть явление примерно одинаковых порядков: это чисто наука, чистая теория. А с другой стороны – это экономическая организация науки, когда там идёт конкуренция за ставки, за гранты, за финансирование и прочее.
И вот здесь, мне кажется, было бы интересно рассмотреть ещё один такой классический аргумент, который всем, наверное, знаком. У некоторых психоанализ вызывает отторжение почему? Потому что никто не хочет, чтобы капались в его душе.
То есть Узланер-то что пишет: мы встаём на защиту психоанализа, потому что нас тревожит судьба субъекта, субъект – вещь хрупкая. И определённые тенденции в развитии нейронауки могут привести к пагубным последствиям для этого субъекта. Но можно представить себе, что противник, тот, кто редуцирует субъекта, он тоже на самом-то деле движим какой-то ещё более глубинной тревогой за этого субъекта и в этом смысле хочет как бы полностью дистанцироваться от него и заняться по сути дела какой-то фетишистской предметностью. То есть как бы «мы не хотим заниматься субъектом, потому что это нас тревожит, и поэтому мы займёмся чем-то таким, что блокирует к нему доступ или подменяет его». И таким образом здесь мы начинаем понимать, что на самом деле сама эта антифрейдистская, антипсихоаналитическая концепция по-своему может быть доказательством определённой правоты психоанализа.
Но интересно было бы попытаться и на психоанализ взглянуть со стороны нейронауки, чтобы показать, каким образом фрейдизм мотивируется той реальностью, которую эта нейронаука изучает. Психоанализ может по крайней мере высказать гипотезу, как, почему люди становятся такими «чистыми натуралистами». Есть ли симметричный тезис у нейронауки? Было бы интересно, если бы специалисты каким-то образом, опять-таки, не агрессивные книжки писали, а вот высказались по этому поводу.
ВМ: Мне кажется, необычайно важный момент, который вы отметили, это схождение в некой точке экономики, политики и науки. Это момент, который звучит следующим образом: да, моя бессознательная тревога по поводу судьбы субъекта настолько велика, что я пойду чисто научным путём и отброшу его вообще, причём отброшу его в чисто психоаналитическом смысле слова. Не случайно эти слова про гранты, экономику, финансы. Для меня это принципиально важно, потому что я чётко знаю, когда эта атака началась.
Понятно, что она началась во времена Фрейда; статья, которую уже упомянули, была написана в 1925 году. Но по-настоящему атака развернулась в восьмидесятые годы, когда произошло, в моей голове, два события. Одно глобальное событие – это смещение всей политики и экономики вправо резко. И второе событие – это выход психофармакологии уже явно на рынок с карманами, забитыми препаратами. Никакие конкуренты здесь не нужны.
АП: Да. И в этом смысле для кого-то это вообще может быть явление примерно одинаковых порядков: это чисто наука, чистая теория. А с другой стороны – это экономическая организация науки, когда там идёт конкуренция за ставки, за гранты, за финансирование и прочее.
И вот здесь, мне кажется, было бы интересно рассмотреть ещё один такой классический аргумент, который всем, наверное, знаком. У некоторых психоанализ вызывает отторжение почему? Потому что никто не хочет, чтобы капались в его душе.
То есть Узланер-то что пишет: мы встаём на защиту психоанализа, потому что нас тревожит судьба субъекта, субъект – вещь хрупкая. И определённые тенденции в развитии нейронауки могут привести к пагубным последствиям для этого субъекта. Но можно представить себе, что противник, тот, кто редуцирует субъекта, он тоже на самом-то деле движим какой-то ещё более глубинной тревогой за этого субъекта и в этом смысле хочет как бы полностью дистанцироваться от него и заняться по сути дела какой-то фетишистской предметностью. То есть как бы «мы не хотим заниматься субъектом, потому что это нас тревожит, и поэтому мы займёмся чем-то таким, что блокирует к нему доступ или подменяет его». И таким образом здесь мы начинаем понимать, что на самом деле сама эта антифрейдистская, антипсихоаналитическая концепция по-своему может быть доказательством определённой правоты психоанализа.
Но интересно было бы попытаться и на психоанализ взглянуть со стороны нейронауки, чтобы показать, каким образом фрейдизм мотивируется той реальностью, которую эта нейронаука изучает. Психоанализ может по крайней мере высказать гипотезу, как, почему люди становятся такими «чистыми натуралистами». Есть ли симметричный тезис у нейронауки? Было бы интересно, если бы специалисты каким-то образом, опять-таки, не агрессивные книжки писали, а вот высказались по этому поводу.
ВМ: Мне кажется, необычайно важный момент, который вы отметили, это схождение в некой точке экономики, политики и науки. Это момент, который звучит следующим образом: да, моя бессознательная тревога по поводу судьбы субъекта настолько велика, что я пойду чисто научным путём и отброшу его вообще, причём отброшу его в чисто психоаналитическом смысле слова. Не случайно эти слова про гранты, экономику, финансы. Для меня это принципиально важно, потому что я чётко знаю, когда эта атака началась.
Понятно, что она началась во времена Фрейда; статья, которую уже упомянули, была написана в 1925 году. Но по-настоящему атака развернулась в восьмидесятые годы, когда произошло, в моей голове, два события. Одно глобальное событие – это смещение всей политики и экономики вправо резко. И второе событие – это выход психофармакологии уже явно на рынок с карманами, забитыми препаратами. Никакие конкуренты здесь не нужны.
Для меня слово «учёный» – это последнее ругательство. Вот идут матерные слова, а потом уже идёт последнее – «ну всё, круглый учёный».
Наука гетерогенна, это само собой, нет никакого единого поля науки.
Наука стремится быть объективной и, соответственно, всё, что нарушает объективность, должно быть отброшено. Отбрасывается субъект, и тут идёт по дороге Фрейд, он же любил собирать грибы, и видит – валяется субъект. О, класс, вот им я и займусь. Вокруг субъекта начинает разворачиваться целая дисциплина. Начинает развиваться вот это странное поле гуманитарности, которое нифига не гуманитарно на самом деле. Цитата из Лакана: «Фрейд гуманистом не был». Точка. Или восклицательный знак.
Фрейд говорит о нарциссическом унижении человека, но так, как его унизили нейронауки – что мы все просто приложение к куску мяса под названием «мозг» – конечно, такого унижения даже и Фрейду не снилось.
Наука стремится быть объективной и, соответственно, всё, что нарушает объективность, должно быть отброшено. Отбрасывается субъект, и тут идёт по дороге Фрейд, он же любил собирать грибы, и видит – валяется субъект. О, класс, вот им я и займусь. Вокруг субъекта начинает разворачиваться целая дисциплина. Начинает развиваться вот это странное поле гуманитарности, которое нифига не гуманитарно на самом деле. Цитата из Лакана: «Фрейд гуманистом не был». Точка. Или восклицательный знак.
Фрейд говорит о нарциссическом унижении человека, но так, как его унизили нейронауки – что мы все просто приложение к куску мяса под названием «мозг» – конечно, такого унижения даже и Фрейду не снилось.
ЕА: С чем я сталкивалась в клиниках, и, как оказалось в разговорах с коллегами, далеко не только я – психиатры остаются глухи к тому, что вот есть бессознательное, есть какая-то возможность у этого бессознательного что-то с собой делать. И есть такие две категоричные позиции. С одной стороны – «вы занимаетесь какой-то фигнёй»; с другой стороны, когда все оплоты медикаментозные предприняты и при этом не происходит какого-то качественного улучшения состояния пациента, то он тут же передаётся в руки психологов, психотерапевтов со словами «Ну, вы же можете, сотворите чудо!» Такая вот любопытная двойственная история.
Мне кажется, отчасти это связано не только с тревогой за субъекта, но и с тревогой самого субъекта. Потому что неизбежно столкновение с психоанализом вызывает в первую очередь тревогу.
ВМ: Я вспоминаю слова замечательного студента, он сказал однажды после лекции в университете: «Ну, хватит уже, Виктор Аронович, сколько можно бороться за вашего этого субъекта. Давайте всё-таки уже отдадимся машинам полностью и прекратим это сопротивление, оно всё равно ни к чему не приведёт». На самом деле очень умная мысль. И я вот сижу и думаю: сколько мы будем носиться с этим субъектом, с нами самими? И правда, сдать сейчас все позиции машинам, нейронаукам, генетике...
ЕА: Так интересно, что при этом учёные, занимающиеся созданием искусственного интеллекта, считают Фрейда одним из первых.
ВМ: И психосоматики считают Фрейда одним из первых. И племянник его учредил потребительский капитализм, и многое другое. В общем, весь мир можно приписать Фрейду.
Вы хотели сказать что-то?
АП: Нет, я пошутить хотел.
ВМ: Будете шутить?
АП: Я просто хотел пошутить, что есть действительно какое-то фетишистское очарование в этих вещах. И даже в «Матрице» оно хорошо показано: вот только когда тебя подключают к матрице, ты можешь спокойно предаваться чистой радости от всего этого мира смыслов. О которых пишет, например, Узланер, когда он в конце говорит, что всё-таки мы должны ратовать за герменевтику и понимать, что мир – это не функция нейронов, а это сложная интерсубъективная сеть, состоящая из процессов переноса и контрпереноса. Это очень красиво, очень точно сказано.
Но мы же прекрасно себе понимаем, что те люди, которые пишут эти злобные книги – по всей видимости, это люди, которые полностью наслаждаются этим миром смыслов, переносов и контрпереносов. Потому что, во-первых, сами эти книги – это как раз игра этих переносов и контрпереносов. А во-вторых, наверное, написав какую-то книгу, раздав автографы на презентации, получив грант и так далее, они пьют хорошие вина, носят хорошие костюмы, улыбаются белозубыми улыбками. Наслаждаются они этим интерсубъективным миром смыслов как абсолютно первичным. Смешно получать удовольствие от секса или вкусной еды, полагая, что это просто-напросто какой-то там резонанс и так далее. Поэтому шутки шутками...
Мне кажется, отчасти это связано не только с тревогой за субъекта, но и с тревогой самого субъекта. Потому что неизбежно столкновение с психоанализом вызывает в первую очередь тревогу.
ВМ: Я вспоминаю слова замечательного студента, он сказал однажды после лекции в университете: «Ну, хватит уже, Виктор Аронович, сколько можно бороться за вашего этого субъекта. Давайте всё-таки уже отдадимся машинам полностью и прекратим это сопротивление, оно всё равно ни к чему не приведёт». На самом деле очень умная мысль. И я вот сижу и думаю: сколько мы будем носиться с этим субъектом, с нами самими? И правда, сдать сейчас все позиции машинам, нейронаукам, генетике...
ЕА: Так интересно, что при этом учёные, занимающиеся созданием искусственного интеллекта, считают Фрейда одним из первых.
ВМ: И психосоматики считают Фрейда одним из первых. И племянник его учредил потребительский капитализм, и многое другое. В общем, весь мир можно приписать Фрейду.
Вы хотели сказать что-то?
АП: Нет, я пошутить хотел.
ВМ: Будете шутить?
АП: Я просто хотел пошутить, что есть действительно какое-то фетишистское очарование в этих вещах. И даже в «Матрице» оно хорошо показано: вот только когда тебя подключают к матрице, ты можешь спокойно предаваться чистой радости от всего этого мира смыслов. О которых пишет, например, Узланер, когда он в конце говорит, что всё-таки мы должны ратовать за герменевтику и понимать, что мир – это не функция нейронов, а это сложная интерсубъективная сеть, состоящая из процессов переноса и контрпереноса. Это очень красиво, очень точно сказано.
Но мы же прекрасно себе понимаем, что те люди, которые пишут эти злобные книги – по всей видимости, это люди, которые полностью наслаждаются этим миром смыслов, переносов и контрпереносов. Потому что, во-первых, сами эти книги – это как раз игра этих переносов и контрпереносов. А во-вторых, наверное, написав какую-то книгу, раздав автографы на презентации, получив грант и так далее, они пьют хорошие вина, носят хорошие костюмы, улыбаются белозубыми улыбками. Наслаждаются они этим интерсубъективным миром смыслов как абсолютно первичным. Смешно получать удовольствие от секса или вкусной еды, полагая, что это просто-напросто какой-то там резонанс и так далее. Поэтому шутки шутками...
Из зала: На психоанализ нападали и будут нападать. Чем вас привлекла именно эта статья?
ВМ: Статья чётко отстаивает право психоанализа на существование. Автор статьи – философ. Если бы это психоаналитик написал, я бы статью «В защиту психоанализа», между нами говоря, читать бы не стал вообще. А тут написал философ, молодой московский философ, мне интересно, о чём человек думает. И второй момент: я сам не был в состоянии читать этих вот авторов, которые с ненавистью пишут о психоанализе, а этот автор, Дмитрий Узланер, всё это прочитал. У него очень аргументированная и очень взвешенная статья в защиту психоанализа. Поэтому мы сейчас пытаемся понять, в конце концов, что сегодня происходит? Почему сегодня? То есть одно дело – Фрейд в 25-м году. Мы живём в абсолютно другом мире.
Сегодня, как Александр уже чётко сформулировал позицию (точнее, это Жижек ещё сформулировал), нейроучёные ещё больше унижают на самом деле человека. То есть дело не в этом унижении.
Есть и очаг, который, наверное, нет смысла обсуждать, он какой-то странный для меня. Это сексуальность. Фрейд в 25-м году говорил, что, наверное, людей пугает то, что слишком откровенно мы говорим о сексуальности. Но говорить сегодня, во времена интернета, или «порнонета» правильнее его называть (всё-таки в интернете ничего другого, мне кажется, нет, кроме порнографии; достойного, по крайней мере). Соответственно, это странно сегодня в сторону сексуальности идти.
ЕА: Интерес ещё, для меня, по крайней мере, был в том, что Дмитрий не просто выступает в защиту психоанализа. Потому что действительно психоаналитики часто встают на баррикады и отметают всё остальное. Он говорит для меня скорее про то, что «ребят, этот разговор интересен и он возможен, но давайте как-то дистанцируемся от собственных переживаний и переносов на психоанализ и фигуру Фрейда в том числе, и как-то аргументированно заведём разговор».
ВМ: И спустим собак, например, на астрофизику. Все нападут вот с завтрашнего дня.
АП: Даже если мы просто-напросто посмотрим, какого типа аргументации используются против того, что фрейдизм или фрейдовский психоанализ – это не наука, то даже здесь мы увидим прямо противоречащие друг другу аргументы. Например, одни говорят, базируясь на Поппере, что психоанализ – это не наука, потому что его базовые положения не поддаются фальсификации. А другие говорят, что психоанализ – это не наука, потому что все его положения фальсифицируются опытом, или настоящей наукой, или чем-то ещё. Называется «верь, кому хочешь».
ВМ: Статья чётко отстаивает право психоанализа на существование. Автор статьи – философ. Если бы это психоаналитик написал, я бы статью «В защиту психоанализа», между нами говоря, читать бы не стал вообще. А тут написал философ, молодой московский философ, мне интересно, о чём человек думает. И второй момент: я сам не был в состоянии читать этих вот авторов, которые с ненавистью пишут о психоанализе, а этот автор, Дмитрий Узланер, всё это прочитал. У него очень аргументированная и очень взвешенная статья в защиту психоанализа. Поэтому мы сейчас пытаемся понять, в конце концов, что сегодня происходит? Почему сегодня? То есть одно дело – Фрейд в 25-м году. Мы живём в абсолютно другом мире.
Сегодня, как Александр уже чётко сформулировал позицию (точнее, это Жижек ещё сформулировал), нейроучёные ещё больше унижают на самом деле человека. То есть дело не в этом унижении.
Есть и очаг, который, наверное, нет смысла обсуждать, он какой-то странный для меня. Это сексуальность. Фрейд в 25-м году говорил, что, наверное, людей пугает то, что слишком откровенно мы говорим о сексуальности. Но говорить сегодня, во времена интернета, или «порнонета» правильнее его называть (всё-таки в интернете ничего другого, мне кажется, нет, кроме порнографии; достойного, по крайней мере). Соответственно, это странно сегодня в сторону сексуальности идти.
ЕА: Интерес ещё, для меня, по крайней мере, был в том, что Дмитрий не просто выступает в защиту психоанализа. Потому что действительно психоаналитики часто встают на баррикады и отметают всё остальное. Он говорит для меня скорее про то, что «ребят, этот разговор интересен и он возможен, но давайте как-то дистанцируемся от собственных переживаний и переносов на психоанализ и фигуру Фрейда в том числе, и как-то аргументированно заведём разговор».
ВМ: И спустим собак, например, на астрофизику. Все нападут вот с завтрашнего дня.
АП: Даже если мы просто-напросто посмотрим, какого типа аргументации используются против того, что фрейдизм или фрейдовский психоанализ – это не наука, то даже здесь мы увидим прямо противоречащие друг другу аргументы. Например, одни говорят, базируясь на Поппере, что психоанализ – это не наука, потому что его базовые положения не поддаются фальсификации. А другие говорят, что психоанализ – это не наука, потому что все его положения фальсифицируются опытом, или настоящей наукой, или чем-то ещё. Называется «верь, кому хочешь».
Из зала: В вашей речи прозвучало в самом начале «я верю в психоанализ». Часто доводилось в обыденных разговорах сталкиваться с точкой зрения, что «ты веришь в психоанализ, а я вот верю в приём таблеток, я верю в терапию». И оказывается, что психоанализ и терапия на одной полке и можно просто выбрать, во что верить. Мне всегда хотелось показать, что психоанализ – это что-то другое, с этой полки психоанализ снять и сказать, что психоанализ – это какой-то другой дискурс.
ВМ: Я верю в то, что психоанализ – это другой дискурс, это особая форма знания. Я просто исхожу из того, что, мне так кажется, вера включена во всё, что мы делаем. Первый ответ на этот вопрос – нейроучёные тоже верят.
ВМ: Я верю в то, что психоанализ – это другой дискурс, это особая форма знания. Я просто исхожу из того, что, мне так кажется, вера включена во всё, что мы делаем. Первый ответ на этот вопрос – нейроучёные тоже верят.
И философия, и психоанализ, и наука требуют веры.
Второй момент – это не вопрос выбора того, что находится на полках, поскольку я верю Лакану, который говорит о том, что любой выбор является принудительным, иначе говоря, бессознательный выбор всегда уже сделан, мы лишь его ратифицируем. И этот процесс ратификации мы называем, собственно, выбором.
Третий момент тоже от Лакана: мы должны поверить Фрейду ещё до того, как начали его читать. Эта фраза говорит о том, что вера идёт впереди, а всё остальное следует за ней, то есть какая-то аргументация, какое-то знание и так далее.
Как вы прекрасно понимаете, факторов, которые привели к вере, их много. И вера – она отнюдь не отрицает необходимости аргументации, это не слепая вера. Вера отнюдь не отрицает инаковости дискурса, о которой вы сказали в самом начале. То есть я тут противоречия совершенно не вижу.
ЕА: Вера ещё, кроме всего прочего (для меня по крайней мере) – это ещё точка отсчёта. И без того, чтобы эту позицию занять, какую-либо, неважно, какую – относительно текста или клинического случая, невозможно читать дальше. Это наша участь и в этом есть проблема.
Третий момент тоже от Лакана: мы должны поверить Фрейду ещё до того, как начали его читать. Эта фраза говорит о том, что вера идёт впереди, а всё остальное следует за ней, то есть какая-то аргументация, какое-то знание и так далее.
Как вы прекрасно понимаете, факторов, которые привели к вере, их много. И вера – она отнюдь не отрицает необходимости аргументации, это не слепая вера. Вера отнюдь не отрицает инаковости дискурса, о которой вы сказали в самом начале. То есть я тут противоречия совершенно не вижу.
ЕА: Вера ещё, кроме всего прочего (для меня по крайней мере) – это ещё точка отсчёта. И без того, чтобы эту позицию занять, какую-либо, неважно, какую – относительно текста или клинического случая, невозможно читать дальше. Это наша участь и в этом есть проблема.
Из зала: Научный дискурс, как мы знаем, с точки зрения психоанализа является паранойяльным отчасти, но вопрос возникает, не является ли сам дискурс в защиту психоанализа таким же паранойяльным? Не является ли вся эта речь своего рода версией анекдота про неуловимого ковбоя Джо? Является ли дискурс в защиту психоанализа по сути выходом на политическую арену?
АП: Если провести аналогию между психоанализом и философией в контексте вашего вопроса, философия, как вы знаете, тоже иногда испытывает сложности с поддержкой. Но гораздо больше есть примеров, просто в силу того, что философия существует давно, когда к философии напрямую обращалась власть, которая была готова её финансировать, поддерживать и так далее. И, как мы знаем, такое приглашение философов во власть и, можно сказать, ещё и в деньги, было хорошей лакмусовой бумажкой – кто туда идёт, а кто туда не идёт.
Вот Фрейд поднял брошенного субъекта, а поскольку кроме субъекта уже ничего не оставалось, то Хайдеггер поднял оставшееся ничто. Хайдеггер не случайно критиковал субъекта, но отнюдь не с объективистских позиций нейронауки. Но понятно, что такой автор, который хотел какой-то ангажированности и влияния во власти, очень быстро понял, за какую философию будут давать чины и платить деньги.
И мне кажется, неважно – психоанализ ли, наука ли (в том числе и когнитивизм и нейронаука), экономика ли. Которая сегодня тоже, как вы знаете, часто начинает заигрывать с этими вещами, возникает нейроэкономика. Я не знаю, есть ли сегодня хоть одна дисциплина, к которой кто-то уже не присобачил приставку «нейро-». Дело не этом, а в том, что неважно, о какой области мы говорим, и даже о психоанализе. Каждый раз, когда за это готовы давать гранты, платить, приглашать во власть, мне кажется, жертвы, которые должен философ и учёный принести, такие, что иначе как сделкой с дьяволом это в большинстве случаев назвать достаточно сложно.
ВМ: Мы вышли в результате ещё на одну тему. Вообще, дело не в психоанализе и не в философии, а дело в слове «теория». Самая яростная нападка в моей жизни – мне же никто не будет в лицо говорить, что Фрейд скотина – мне говорили, что омерзительнее человека, чем Гегель, на планете не было никогда.
АП: Но вы же как психоаналитик понимаете, кого они имели ввиду, когда говорили.
ВМ: Я спросил, кстати, в чём проблема. Мне сказали, что с точки зрения сегодняшней экономики, никто так человечество не разводил, как Гегель. Имелось ввиду, что он имел пост, он получал деньги – а о чём он людям говорил? Всё, что он говорил, это же ещё хуже, чем Фрейд.
АП: Если провести аналогию между психоанализом и философией в контексте вашего вопроса, философия, как вы знаете, тоже иногда испытывает сложности с поддержкой. Но гораздо больше есть примеров, просто в силу того, что философия существует давно, когда к философии напрямую обращалась власть, которая была готова её финансировать, поддерживать и так далее. И, как мы знаем, такое приглашение философов во власть и, можно сказать, ещё и в деньги, было хорошей лакмусовой бумажкой – кто туда идёт, а кто туда не идёт.
Вот Фрейд поднял брошенного субъекта, а поскольку кроме субъекта уже ничего не оставалось, то Хайдеггер поднял оставшееся ничто. Хайдеггер не случайно критиковал субъекта, но отнюдь не с объективистских позиций нейронауки. Но понятно, что такой автор, который хотел какой-то ангажированности и влияния во власти, очень быстро понял, за какую философию будут давать чины и платить деньги.
И мне кажется, неважно – психоанализ ли, наука ли (в том числе и когнитивизм и нейронаука), экономика ли. Которая сегодня тоже, как вы знаете, часто начинает заигрывать с этими вещами, возникает нейроэкономика. Я не знаю, есть ли сегодня хоть одна дисциплина, к которой кто-то уже не присобачил приставку «нейро-». Дело не этом, а в том, что неважно, о какой области мы говорим, и даже о психоанализе. Каждый раз, когда за это готовы давать гранты, платить, приглашать во власть, мне кажется, жертвы, которые должен философ и учёный принести, такие, что иначе как сделкой с дьяволом это в большинстве случаев назвать достаточно сложно.
ВМ: Мы вышли в результате ещё на одну тему. Вообще, дело не в психоанализе и не в философии, а дело в слове «теория». Самая яростная нападка в моей жизни – мне же никто не будет в лицо говорить, что Фрейд скотина – мне говорили, что омерзительнее человека, чем Гегель, на планете не было никогда.
АП: Но вы же как психоаналитик понимаете, кого они имели ввиду, когда говорили.
ВМ: Я спросил, кстати, в чём проблема. Мне сказали, что с точки зрения сегодняшней экономики, никто так человечество не разводил, как Гегель. Имелось ввиду, что он имел пост, он получал деньги – а о чём он людям говорил? Всё, что он говорил, это же ещё хуже, чем Фрейд.
Из зала: Александр упомянул нейроэкономику, вот она о чём вообще? Просто все эти «нейро-» – их нельзя назвать практикой. Про психоанализ можно говорить «практика», толкование – тоже своего рода практика. А вот «нейро-» – это же просто чистая наука?
ЕА: Есть нейропсихология, есть нейрофизиология. Как раз, мне кажется, наоборот: всё, что с приставкой «нейро-», носит более практический характер.
АП: Под нейроэкономикой имеется ввиду в данном случае, условно говоря, мышление, решение экономических проблем. И в этом смысле это тоже относится к области психики, просто мы говорим не о психике в целом, а о психике в том аспекте, в каком человек решает экономические задачи, делает или не делает так называемый рациональный выбор и так далее.
Из зала: Почему-то у меня ассоциация с наноэкономикой...
ВМ: Наноэкономика – там наноторговля происходит, своя другая стихия.
АП: Вот «нано-» и «нейро-» почему между собой не воюют?
Или воюют тоже?..
ЕА: Есть нейропсихология, есть нейрофизиология. Как раз, мне кажется, наоборот: всё, что с приставкой «нейро-», носит более практический характер.
АП: Под нейроэкономикой имеется ввиду в данном случае, условно говоря, мышление, решение экономических проблем. И в этом смысле это тоже относится к области психики, просто мы говорим не о психике в целом, а о психике в том аспекте, в каком человек решает экономические задачи, делает или не делает так называемый рациональный выбор и так далее.
Из зала: Почему-то у меня ассоциация с наноэкономикой...
ВМ: Наноэкономика – там наноторговля происходит, своя другая стихия.
АП: Вот «нано-» и «нейро-» почему между собой не воюют?
Или воюют тоже?..
Ещё по теме:
